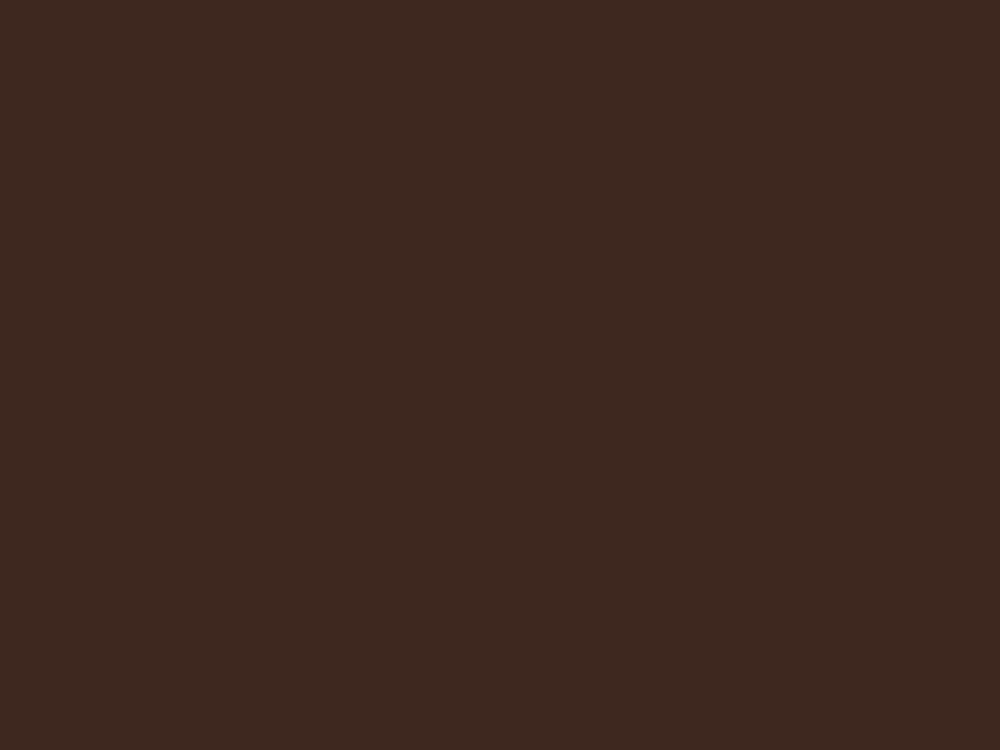Женская власть: как дворянки управляли имениями
Роман в стихах «Евгений Онегин» — кладезь сведений о начале XIX века в России. Александр Пушкин оставил в тексте множество отсылок к реалиям того времени — и сегодня, изучая «Евгения Онегина», можно узнать, как жили российские дворяне. Рассказываем, в каких случаях в XIX столетии имениями управляли женщины, почему они становились хозяйками и как решали дела.
Наследницы и распорядительницы



В XIX веке хозяйственные права российских дворянок делились на юридические, то есть имущественные, и фактические — хозяйственные. Законы о передаче имущества в Российской империи позволяли оставлять его и дочерям, и женам. Так что они могли получить в личное владение имение, фабрику или крепостных от кровных родственников или мужа. В этих случаях вся власть принадлежала женщине и на бумаге, и в реальности.
Обычно старшие родственники выбирали наследниками тех детей или племянников, с которыми у них были более теплые отношения. Американская исследовательница Маррезе Мишель Ламарш, автор труда «Бабье царство: дворянки и владение имуществом в России (1700–1861)», перечисляла подобные случаи: «Мария Блудова завещала свое имущество младшим дочерям и не оставила ни куска земли сыну, с которым у нее была тяжба. <…> Полковник Талеров также не допустил одну из дочерей к разделу имения за непочтительность».
Однако вдова могла не унаследовать имущество, а лишь оказаться распорядительницей. Такое случалось, если юридически владельцами становились ее несовершеннолетние дети, которые пока не могли вести дела, или ее взрослые дети, которые этого не хотели. Ламарш в своей книге приводила в пример фрейлину императрицы Александры Федоровны — Екатерину Мусину-Пушкину. Она руководила имуществом сыновей после смерти их отца. Исследовательница отмечала: «…многие наследники обоих полов без опаски вверяли свои земли матерям, пока сами находились за границей или были чем-то заняты; и случалось, что дети начинали заниматься своим поместьем лишь после того, как мать умирала или становилась слишком стара, чтобы нести бремя руководства имениями».
Как дворянка могла управлять имением мужа



«Женская власть» порой устанавливалась даже там, где юридическим владельцем значился мужчина. Дворянки часто брали в свои руки дела мужей и приводили их в порядок, например разбирались с долгами. Супруга могла жить в имении одна — целыми сезонами, а то и годами. Например, муж вел светскую жизнь или работал в городе, а его жена предпочитала тихий деревенский быт. Знатная ирландка Марта Уилмот, которая гостила в России с 1803 по 1808 год и общалась с княгиней Екатериной Дашковой, рассказывала в письмах отцу, что местные супружеские пары выбирают такой вариант весьма часто. Например, невестка самой Дашковой устроилась «безвыездно в деревне, в совершенно русском стиле, то есть проживая с мужем раздельно, но оставаясь с ним в прекрасных отношениях, и переписывалась с ним при каждой оказии». Иногда пары разъезжались, чтобы избежать формального развода: его было сложно получить после венчания в церкви. В любом случае женщина фактически полностью распоряжалась поместьем и сама вела там дела.
Зажиточные семьи обычно хотя бы в одном поместье вели дела удаленно: переписывались с управляющими на местах. Изначально — в старину, когда сословия только зарождались, — дворяне получали земельные наделы за службу царю. Одному человеку могли пожаловать несколько участков, причем в разных частях страны. Также семейные владения пополнялись после свадеб, если у невесты было земельное приданое или она его наследовала позже. Ламарш указывала, что «в отличие от традиций землевладения в Западной Европе, в России дворянские поместья редко располагались компактно, и бывало, что помещик никогда не наведывался в некоторые из них».
Нередко с управляющими переписывались как раз жены фактических владельцев. Такие письма сохранились во многих архивах. Например, дворянка Елизавета Полянская сама назначала работников на разные должности и решала мелкие споры: «Выслушав ваши жалобы на бурмистра Агафона Данилова и узнав, что он пьет, нашла справедливым отставить его, а на место его посылаю… крестьянина Владимира, он человек честный и трезвый».
Читайте также:
Что хозяйка делала в имении



В романе в стихах «Евгений Онегин» Пушкин описал распространенный тип «хозяйки на местах», которая фактически занималась в имении всеми делами. Это была старшая Ларина, мать Татьяны и Ольги. Ее муж, Дмитрий Ларин, отошел от дел. Сразу после свадьбы Ларина хандрила: она была влюблена в другого, замуж вышла против воли, а вообще мечтала выезжать в свет, как ее кузина, московская княжна. Однако муж привез ее в деревню и фактически изолировал от общества. И молодой жене пришлось искать себе занятие:
Привычка усладила горе,
Не отразимое ничем;
Открытие большое вскоре
Ее утешило совсем:
Она меж делом и досугом
Открыла тайну, как супругом
Самодержавно управлять,
И все тогда пошло на стать.
Не отразимое ничем;
Открытие большое вскоре
Ее утешило совсем:
Она меж делом и досугом
Открыла тайну, как супругом
Самодержавно управлять,
И все тогда пошло на стать.
«Самодержавное управление супругом» как раз и означало, что Ларина стала реальной хозяйкой имения и приняла на себя основные обязанности, хотя фактическим владельцем оставался муж. Причем Ларина занималась не только традиционными бытовыми «женскими делами», но и распоряжалась крестьянами:
Она езжала по работам,
Солила на зиму грибы,
Вела расходы, брила лбы,
Ходила в баню по субботам,
Служанок била осердясь —
Все это мужа не спросясь.
Солила на зиму грибы,
Вела расходы, брила лбы,
Ходила в баню по субботам,
Служанок била осердясь —
Все это мужа не спросясь.
В своей книге исследовательница Маррезе Мишель Ламарш перечисляла дела, которые могла вести хозяйка: «…от одного ея имени происходил платеж за крестьян государственных повинностей, исполнение рекрутской обязанности, сбор установленного оброка, и тому подобного; выдавала по своей воле в замужество женок и девок в другие свои деревни».
Старшая Ларина «брила лбы», то есть отдавала крепостных в рекруты. Фактически хозяйка имения обладала такой же властью, как и ее муж. Дворяне не только владели землями и распоряжались доходами от них, но и снимали нагрузку со многих государственных органов. Сами собирали платежи, чтобы перечислить налоги в казну, пополняли армию и распоряжались жизнями крестьян, в том числе кормили, лечили и женили их, строили больницы, школы и церкви. Конечно, важно было вести экономику имения: учитывать доходы и расходы, планировать крупные траты, а при необходимости — и выплачивать долги.
Иногда дворянка не сразу брала на себя функции полноценной владелицы поместья, а начинала с повседневных хозяйственных дел. Однако это быстро приводило к работе с деньгами. Чтобы «солить грибы», то есть пополнять запасы продовольствия, или воспитывать детей, в том числе нанимать им воспитателей и покупать необходимое, требовалось знать материальное положение семьи. Женщины начинали разбираться с финансами и вскоре понимали, что дела нужно поправлять. Так вскоре получали и дополнительные хлопоты, и власть.
А иногда после смерти мужа хозяйкой приходилось становиться поневоле. Иван Раевский писал, что его бабушка, овдовев, обнаружила, что тот многократно перезаложил поместье. Помещица приняла наследство, стала расплачиваться за кредиты супруга и при этом заботиться о том, чтобы оставить детям хотя бы какое-то наследство. Ей приходилось искать средства, и дворянка «дешево скупала хорошие, но не заселенные земли и населяла их крестьянами с своих плохих земель». За небольшое время она не только выплатила долги, но и сколотила крепкое семейное состояние.
Автор: Тата Боева