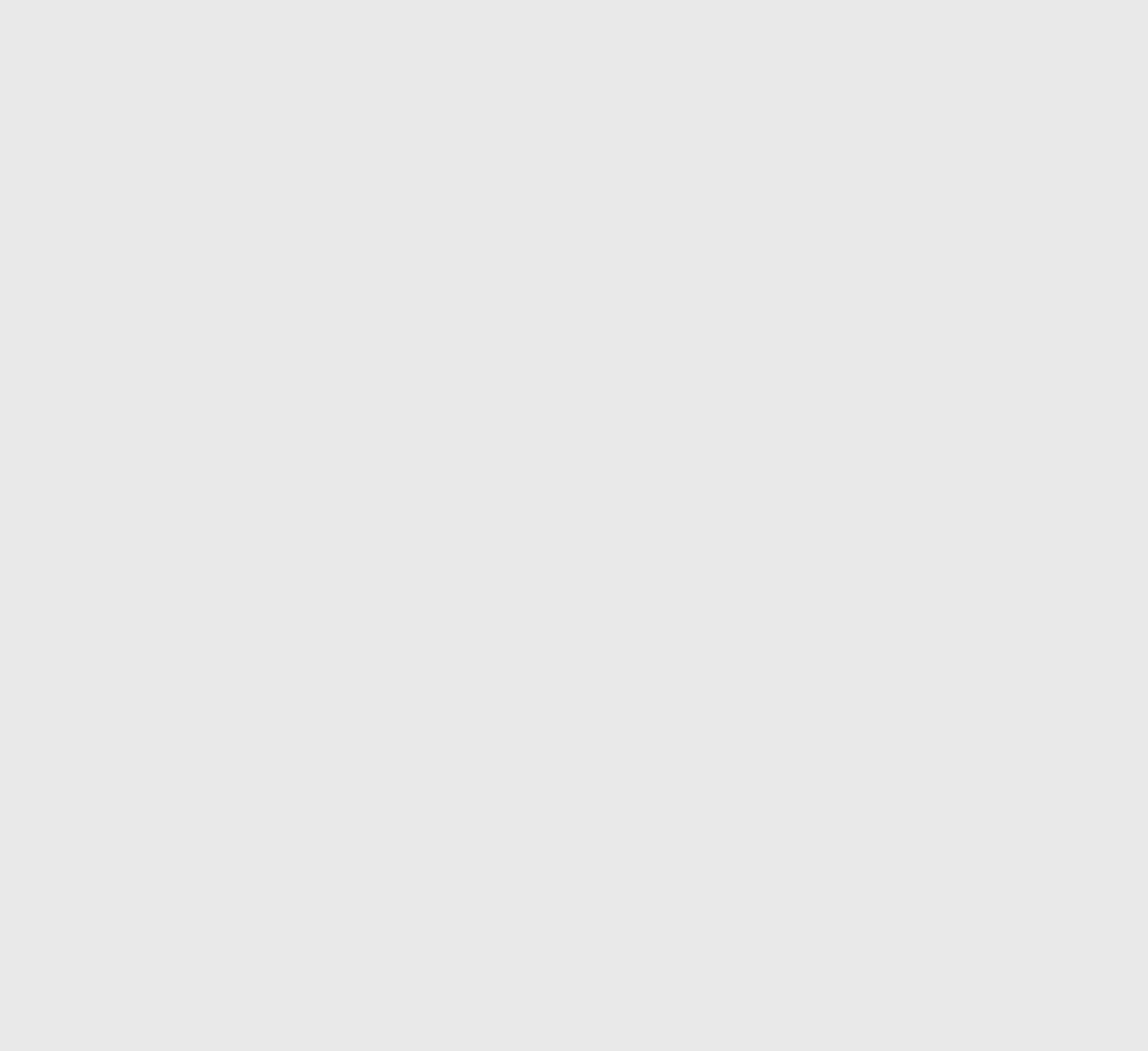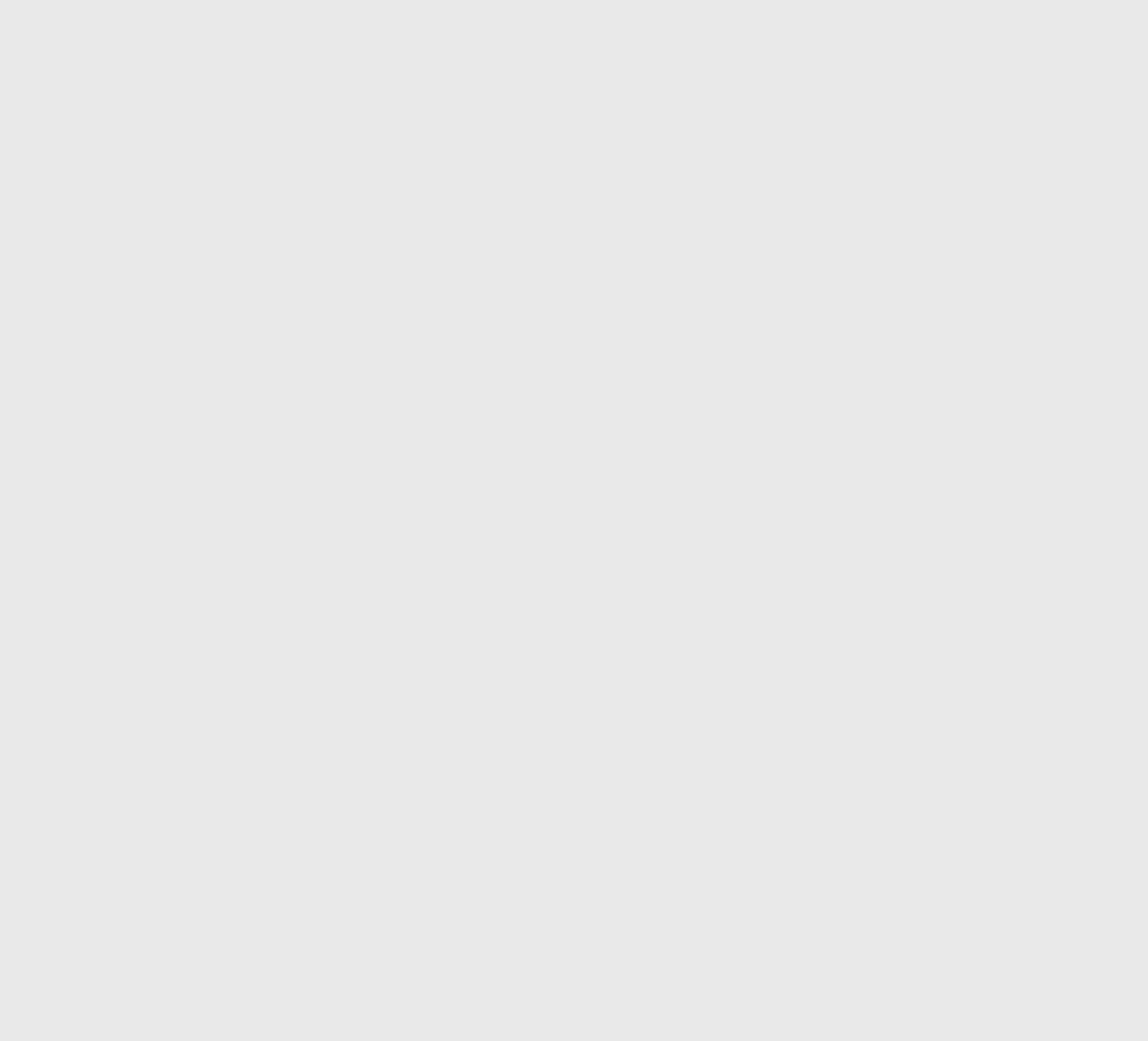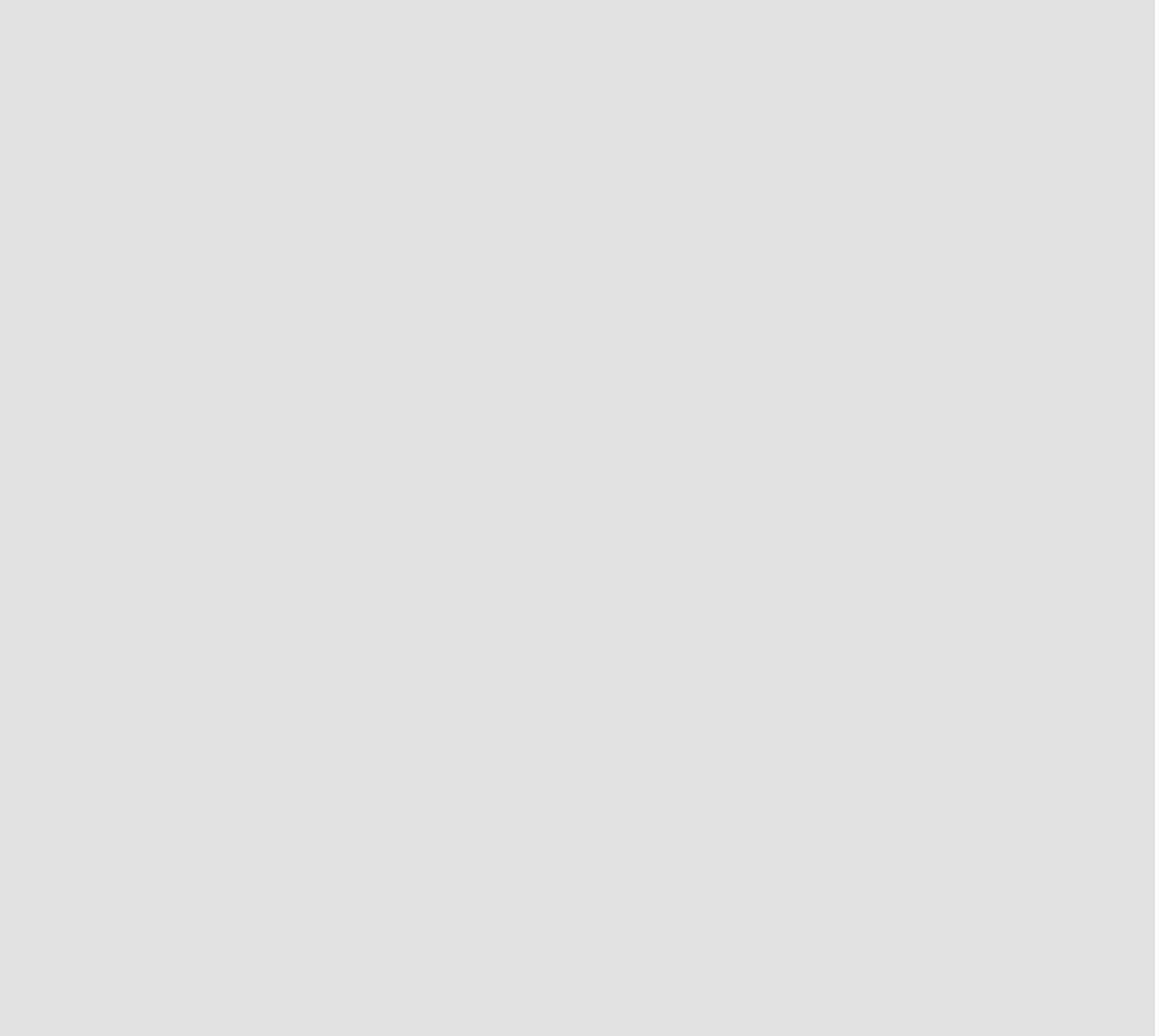Ловушка для Пушкина. Как Геккерн и Дантес сделали из Пушкина мнимого ревнивца и убили его
Минуло почти два века со дня смерти Пушкина, но и сегодня нам не удалось выяснить подоплёку и представить полную картину событий, предшествовавших роковой дуэли 27 января 1837 года. Сразу же после смерти Пушкина император Николай I приказал «предать забвению» не только «преступление» (участие в дуэли) Пушкина, но и всю «дуэльную историю». Приказ самодержца был выполнен. Восторжествовало также согласованное решение близких к поэту лиц не раскрывать в интересах, как они их понимали, его самого и, в особенности, его жены известные им подробности произошедшего. Всё это сыграло на руку тем, кто хотел скрыть и, надо сказать, преуспел в этом, не только пружины событий, но и истинную цель предшествовавшей убийству травли Александра Сергеевича Пушкина — опорочить его репутацию, нейтрализовать всё более усиливающееся влияние на российское общество и дискредитировать его в глазах императора.
Чтобы восстановить причинную последовательность преддуэльных событий, необходимо по-новому взглянуть на сохранившиеся документальные свидетельства и, в первую очередь, на письма самого Пушкина
…«Я обнаружил искусителя, непочтительно поставленного в затруднительное положение»




Считается, что Пушкин 25 января 1837 г. написал оскорбительное письмо «усыновителю» убийцы, нидерландскому посланнику в России барону Геккерну, после получения которого его «приемному сыну» Дантесу ничего другого не оставалось, как вызвать «оскорбителя» на дуэль. Само письмо в подлиннике неизвестно, оно воспроизводится в пушкинистике по сохранившимся «копиям».
Январской дуэли предшествовал вызов Пушкиным Дантеса на поединок в ноябре 1836 года. Причиной вызова якобы было получение поэтом «анонимных дипломов на звание рогоносца». Пушкин заподозрил в их авторстве барона Геккерна. Спустя два месяца, в своем январском письме к Геккерну, Пушкин не стал настаивать на авторстве барона. Первый исследователь дуэли Аммосов в своей книге привел слова секунданта Пушкина Данзаса о том, что «автором этих (анонимных) записок, по сходству почерка, Пушкин подозревал барона Геккерна, отца». Данзас, очевидно, не видел полученных Пушкиным «дипломов», написанных, как известно, «печатными» буквами. Да и последовательность ноябрьских событий в изложении Данзаса не позволяет считать эти «анонимные записки» пасквильными дипломами.
Вспоминая спустя годы о январском письме Пушкина, его молодой друг В.А. Соллогуб писал: «Письмо, впрочем, было то же самое, которое он мне читал за два месяца, — многие места я узнал». Соллогуб не нашел между письмами существенной разницы и подчеркнул: «Кто был виновником (в сочинении пасквильного диплома), осталось тогда еще тайной непроницаемой».
Соллогуб здесь вспоминает о ноябрьском письме А.С. Пушкина к Геккерну, которое не было отослано и найдено в корзине для бумаг разорванным.
Клочки были подобраны один к другому и составили две беловые редакции этого письма, перевод, анализ и реконструкция которых позднее были проведены известными пушкинистами Н.В. Измайловым и Б.В. Казанским. Отдавая должное проделанной ими работе, нельзя все же согласиться с принятой ими концепцией — возможностью реконструировать тексты обоюдными заимствованиями, тем более словами и предложениями из копий январского письма. Предложенная ими на этой основе реконструкция статична и не отражает эволюции позиции самого поэта.
Мне удалось исправить некоторые ошибки принятых переводов и реконструкций, по-новому восстановить важные части пушкинского текста и, главное, прочитать две не только тщательно зачеркнутые, но и замаскированные Пушкиным полустроки самой первой беловой редакции ноябрьского письма.
Мне удалось исправить некоторые ошибки принятых переводов и реконструкций, по-новому восстановить важные части пушкинского текста и, главное, прочитать две не только тщательно зачеркнутые, но и замаскированные Пушкиным полустроки самой первой беловой редакции ноябрьского письма.
Ниже приведен уточнённый перевод с французского языка наиболее трудно восстановимого фрагмента письма в его первоначальной редакции (две зачеркнутые Пушкиным полустроки выделены):
«2 ноября вы узнали от вашего сына новость, которая доставила вам большое удовольствие. Он сказал вам, что я в замешательстве, что моя жена боится некоего письма и что она теряет от этого голову. Вы решили нанести окончательный удар. Я получил… экземпляров анонимного письма (из тех, которое были распространены), но так как это письмо было изготовлено с… я был уверен, что найду моего сочинителя и не беспокоился больше. Действительно, после менее чем трехдневного розыска, я обнаружил искусителя, непочтительно поставленного в затруднительное положение. — Если дипломатия лишь искусство узнать, что делается у других, и расстроить их планы, вы отдадите мне справедливость, что были побеждены на всех пунктах».
Читайте также:
Становится ясной сущность той интриги, которую вели Геккерны, «папаша» и «сын», против Натальи Николаевны. Узнав каким-то образом о «некоем», опасном для нее письме, они, действуя в интересах высокопоставленного «искусителя», стали шантажировать жену поэта оглашением (распространением) этого письма. Откуда они узнали о нем? Современник Пушкина, французский историк А. Фаллу писал, ссылаясь на «непререкаемый» источник: «Однажды в комнату Жоржа Геккерна явился Пушкин… «Каким образом, господин барон, — обратился к нему с видимым спокойствием поэт, — я нашел у себя эти письма, выписанные вашей рукой (т.е., по смыслу, — без подписи, анонимные)?..». «Они не должны задевать вас, — ответил г. де Геккерн, — госпожа Пушкина соглашается получать их для передачи своей сестре, на которой я намерен жениться». Вероятно, в числе этих писем, опрометчиво показанных Пушкиным Дантесу, было и письмо не угаданного тогда еще поэтом «искусителя».



Пушкина не удовлетворил слишком откровенный характер письма к барону, и он стал править его. Правка позволяет увидеть, как Пушкин, не желая дать в руки шантажистов еще одно оружие, оттачивает ту неоднозначность содержания, которая характерна для первой редакции. Здесь же, очевидно, появляется у Пушкина мысль вернуть в полном объеме Дантесу роль, которую тот так «непочтительно» взял на себя сам, т. е. заставить Дантеса и Геккерна увидеть в письме обвинение их в авторстве анонимного письма, с которого все началось, и тем самым оставить «искусителя» о его «затруднительном» положении. Поэт резонно полагал, что, как только негодяи начнут оправдываться, тут-то и откроется физиономия прикрытого ими «искусителя».
Пушкин в письме показал, что понял игру Геккернов. Дантес своей помолвкой с Екатериной Гончаровой, казалось бы, добился сразу нескольких целей: выбил оружие из рук Пушкина против настоящего «искусителя», признав своим и адресованным Екатерине письмо последнего; мог продолжать игру в несчастную страсть к жене поэта, одновременно шантажируя ее; и, играя роль добровольной «ширмы», мог рассчитывать на признательность «искусителя». Оправдывалась в глазах великосветского общества романтическим ореолом жертвы возвышенной любви к замужней красавице и «странная женитьба» молодого кавалергарда. Письмо Пушкина показывало знание им всей ситуации и ставило мерзавцев на грань катастрофы. Ведь разоблаченный «искуситель» не простил бы им дерзкого вмешательства в его личную жизнь.
Одновременно Пушкин написал письмо начальнику III отделения, всесильному графу А.Х. Бенкендорфу, в котором обвинил нидерландского дипломата в недостойном поведении.
Поэт не отослал в ноябре своих писем Геккерну и Бенкендорфу. На аудиенции, которую царь дал Пушкину 23 ноября 1836 г., Николай I, очевидно, пообещал прекратить гнусную интригу, но взял с Пушкина слово не предпринимать решительных шагов без его ведома. По-видимому, поэт не раскрыл императору всей роли Геккернов в интриге, но им самим он поставил определенные условия, на которых согласился не давать хода грязному делу. Судя по всему, эти условия были для Дантеса я Геккерна невыполнимы. Загнанные Пушкиным в угол, посрамленные игроки, чувствуя постоянно грозящую им опасность разоблачения, стали провоцировать поэта на дуэль.
Кто же был третьим действующим лицом преступной травли поэта и его жены и для кого старались Геккерны, «отец» и «сын»?
1833 год. Дантес приезжает в Россию «на ловлю счастья н чинов» из Франции через Германию, заручившись там поддержкой наследного принца Вильгельма Прусского, который дал молодому французу, имевшему немецких родственников по материнской линии, рекомендательное письмо к одному из влиятельнейших царедворцев — генерал-майору Адлербергу.
Этого письма было вполне достаточно для наилучшего устройства Дантеса в России: Николай I был связан тесными узами с прусским королевским домом. Жена царя Александра Федоровна была дочерью прусского короля, сестрой наследного принца. Рекомендации прусского двора обеспечили зачисление Дантеса в аристократический кавалергардский полк, находившийся под патронажем царицы и не только участвовавший в проводимых лично Николаем парадах и маневрах, но и поставлявший высокородным девицам и дамам двора женихов и кавалеров для бесчисленных придворных балов.
Служа в этом привилегированном полку, Дантес подружился со многими отпрысками виднейших фамилий. Ни сам Дантес, ни его «отец» не могли, конечно, не обратить внимания на успех, которым пользовалась жена Пушкина, красавица Наталья Николаевна, всегда окруженная толпой восторженных обожателей, среди которых были и приближенные царя, и представители иностранной аристократии. Тут-то, очевидно, и созрела у Геккерна мысль воспользоваться в своих целях неопытностью и доверчивостью молодой женщины. Два мерзавца, молодой и старый, повели планомерную атаку на жену Пушкина, стремясь развратить н совратить ее, чтобы сделать игрушкой в своих руках. В ход пошли все средства — от открыто демонстрировавшихся Дантесом «чувств» до шантажа и угроз со стороны Геккерна.
Во второй редакции разорванного ноябрьского письма Пушкина к Геккерну сохранилась часть фразы, которую до настоящего времени восстанавливали так: «Я хорошо знал, что красивая внешность, несчастная страсть и двухлетнее постоянство в конце концов всегда произведут некоторое впечатление на сердце молодой особы». Тщательный анализ и основанная на нем реконструкция текста позволили мне внести в эту фразу важное уточнение: «Я хорошо знал, что красивая наружность, несчастная физиономия и настойчивость двух гонителей всегда производят, в конце концов, некоторое действие на сердце молодой женщины».
Дантес демонстрировал, по ироническому замечанию поэта, «великую и возвышенную страсть» к Наталье Николаевне, втерся в пушкинскую семью, где оказывал знаки внимания не только жене главы дома, но и ее сестре Екатерине, втягивая и ее и постыдную игру. Он проник и в круг друзей Пушкина — Вяземских и Карамзиных. Геккерн руководил гнусным поведением молодого авантюриста н сам подкарауливал Пушкину по всем углам, шептал ей о «любви» своего «сына», умолял «спасти» его. Позднее сын Вяземского писал, что объяснение «раздражения» поэта «следует видеть не в волокитстве молодого Геккерна, а в уговаривании стариком бросить мужа». Если бы за ухаживанием, пусть и столь афишированным, Дантеса стояло чувство, Пушкин мог бы понять и простить молодого человека. Найдя у себя в доме неподписанные письма к жене, содержавшие, по словам уже упоминавшегося историка Фаллу, «выражения чрезвычайно сильного чувства», честный и доверчивый Пушкин решил без обиняков поговорить с Дантесом. Каково же было его удивление, когда тот вдруг заявил, что письма написаны им не к Наталье Николаевне, а к ее сестре, Екатерине Гончаровой. Тут-то очевидно, и появились у поэта первые сомнения в искренности Дантеса.
Не прошло и трех дней, как Пушкин убедился, что Дантес играет только роль «ширмы» для некоего высокопоставленного искусителя. Последовал ноябрьский вызов на дуэль, избегнуть которую Дантесу удалось только, попросив, по совету его друзей, руки Екатерины Николаевны в подтверждение своего «признания» Пушкину. Но было уже поздно. Даже такой отчаянный шаг не убедил поэта.
…«Это дело, которое касалось одного меня»
В собраниях сочинений Пушкина дан на французском языке и в переводе так называемый «восстановленный текст» ноябрьского, 1836 г., письма А.С. Пушкина к «усыновителю» Дантеса — барону Л. Геккерну, сводящий воедино два варианта разорванного ноябрьского и две известные «копии» январского, 1837 г., писем Пушкина к Геккерну. Этот текст долго вводил в заблуждение, как неискушенных читателей, так и эрудированных пушкинистов и считался главным доказательством «убежденности» Пушкина в том, что автором оскорбительных для его чести «дипломов на звание рогоносца» был барон Геккерн.
Целесообразно ознакомиться (по недостатку места — в переводе) с текстом ноябрьского письма в самой первой авторской редакции — в том виде, в каком А.С. Пушкин сначала хотел отослать его (многоточиями обозначены утраченные и не восстановимые по контексту фрагменты письма):
«Господин барон,
Прежде всего позвольте сделать краткий обзор того, что недавно произошло.
Поведение вашего сына было мне вполне известно и не могло быть мне безразлично, но так как оно не выходило из границ благопристойности и, кроме того, я знал, сколько моя жена заслуживает моей доверенности и моего… с тем, чтобы на сердце молодой женщины… муж, по крайней мере, если он не поглупел, вполне естественно становится поверенным своей жены и ее твердым наставником.
Признаться, я был не без тревоги. Случай, который в любое другое время был бы мне крайне неприятен, позволил весьма удачно выйти из положения: я получил безыменные письма. Я увидел, что время настало, и воспользовался этим. Остальное вы знаете: я заставил вашего сына играть роль столь забавную и столь жалкую, что моя жена, в удивлении от такой плоскости, не смогла удержаться от смеха, и волненье, которое, быть может, некогда почувствовала она при виде этой великой и возвышенной страсти, угасло в отвращении самом покойном и как нельзя более заслуженном.
Но вы, господин барон, какова была ваша собственная роль во всем этом деле? Вы, представитель коронованной главы, вы были… вы разве только не подстерегали… углах, чтобы говорить ей о вашем сыне, и когда, больной венерической болезнью, он был изнурен лекарствами, вы говорили, подлец, что он умирает от любви к ней, вы бормотали ей: возвратите мне сына.
Вы видите, что я не стесняю себя: но погодите, это еще не все: я же говорил вам, что дело запутывается. Возвратимся к безыменным письмам. Вы же догадываетесь, что они для вас интересны.
2 ноября вы узнали от вашего сына новость, которая доставила вам большое удовольствие. Он сказал вам, что я в замешательстве, что моя жена боится одного из этих писем и что она от всего этого теряет рассудок. Вы решили нанести окончательный удар. Я получил… экземпляров безыменного письма (из тех, которые были распространены), но так как это письмо было изготовлено с… был уверен, что найду моего… не беспокоился больше. Действительно, после менее чем трехдневного розыска, я обнаружил искусителя, непочтительно поставленного в затруднительное положение. — Если дипломатия лишь искусство узнать, что делается у других, и посмеяться над их планами, вы отдадите мне справедливость, признав, что были побеждены по всем пунктам.
Теперь я подхожу к цели моего письма. Быть может, вы желаете знать, что помешало мне до настоящего времени опозорить вас в глазах дворов нашего и вашего. Извольте, я вам сейчас это скажу.
Я добр, простодушен… но у меня чувствительное сердце. Дуэли мне уже недостаточно… и чем бы она ни кончилась… достаточно отомщен ни вашего сына, ни письмом… до малейшего следа этого подлого дела, из которого мне легко будет составить превосходную главу в истории рогоносцев.
Прежде всего позвольте сделать краткий обзор того, что недавно произошло.
Поведение вашего сына было мне вполне известно и не могло быть мне безразлично, но так как оно не выходило из границ благопристойности и, кроме того, я знал, сколько моя жена заслуживает моей доверенности и моего… с тем, чтобы на сердце молодой женщины… муж, по крайней мере, если он не поглупел, вполне естественно становится поверенным своей жены и ее твердым наставником.
Признаться, я был не без тревоги. Случай, который в любое другое время был бы мне крайне неприятен, позволил весьма удачно выйти из положения: я получил безыменные письма. Я увидел, что время настало, и воспользовался этим. Остальное вы знаете: я заставил вашего сына играть роль столь забавную и столь жалкую, что моя жена, в удивлении от такой плоскости, не смогла удержаться от смеха, и волненье, которое, быть может, некогда почувствовала она при виде этой великой и возвышенной страсти, угасло в отвращении самом покойном и как нельзя более заслуженном.
Но вы, господин барон, какова была ваша собственная роль во всем этом деле? Вы, представитель коронованной главы, вы были… вы разве только не подстерегали… углах, чтобы говорить ей о вашем сыне, и когда, больной венерической болезнью, он был изнурен лекарствами, вы говорили, подлец, что он умирает от любви к ней, вы бормотали ей: возвратите мне сына.
Вы видите, что я не стесняю себя: но погодите, это еще не все: я же говорил вам, что дело запутывается. Возвратимся к безыменным письмам. Вы же догадываетесь, что они для вас интересны.
2 ноября вы узнали от вашего сына новость, которая доставила вам большое удовольствие. Он сказал вам, что я в замешательстве, что моя жена боится одного из этих писем и что она от всего этого теряет рассудок. Вы решили нанести окончательный удар. Я получил… экземпляров безыменного письма (из тех, которые были распространены), но так как это письмо было изготовлено с… был уверен, что найду моего… не беспокоился больше. Действительно, после менее чем трехдневного розыска, я обнаружил искусителя, непочтительно поставленного в затруднительное положение. — Если дипломатия лишь искусство узнать, что делается у других, и посмеяться над их планами, вы отдадите мне справедливость, признав, что были побеждены по всем пунктам.
Теперь я подхожу к цели моего письма. Быть может, вы желаете знать, что помешало мне до настоящего времени опозорить вас в глазах дворов нашего и вашего. Извольте, я вам сейчас это скажу.
Я добр, простодушен… но у меня чувствительное сердце. Дуэли мне уже недостаточно… и чем бы она ни кончилась… достаточно отомщен ни вашего сына, ни письмом… до малейшего следа этого подлого дела, из которого мне легко будет составить превосходную главу в истории рогоносцев.
Честь имею быть, господин барон, вашим покорнейшим слугою А. Пушкин».
Как видите, в тексте нет речи ни о «дипломах», ни об авторстве их Геккерна. Пушкин пишет только о неких «безыменных письмах». «Дипломы» же, строго говоря, вообще нельзя считать письмами, тем более «безыменными» (анонимными): в них нет обращения к адресату, и они не анонимны, т. к. подписаны фамилией царедворца Борха. Слово «анонимный» не имело еще тогда отрицательного оттенка и означало лишь «безъименный, без подписи»: см. например, словарь В.И. Даля.
Тщательный анализ последующих редакций ноябрьского письма показал, что и в них Пушкин обвиняет Геккернов только в снятии копии с какого-то «безыменного письма» (не «диплома»!) и в оглашении его содержания — через возможное распространение его копий.
Другое дело, что в процессе правки ноябрьского письма у Пушкина появилась мысль заставить Геккерна увидеть в его письме обвинение в авторстве упомянутого «безыменного письма». Логическое завершение этот замысел Пушкина получает в его неотосланном письме к Бенкендорфу, в котором он, не обвиняя прямо Геккерна в авторстве, пишет: «Я убедился, что безыменное письмо (получено) — от г-на Геккерна». Вполне ясна цель, которую Пушкин перед собой поставил: заставить интриганов оправдываться и в результате выдать ему «искусителя». И все же: в оглашении и в возможном авторстве какого «безыменного письма» обвинял он Геккернов?
Найти ответ на этот вопрос помогла запись в дневнике московского почт-директора А.Я. Булгакова: «Полученное Пушкиным безымянное письмо, в коем приложен был патент в звании рогоносца, с другими язвительными шутками, раздражили… Пушкина самолюбие».
Все факты встали на свои места. В середине октября 1836 года Идалия Полетика, тайная любовница Дантеса и подруга жены Пушкина, заманивает ее в свой дом. Конечно, ревнивая Идалия не собиралась делить любовь красавца-кавалергарда с Натали. Под руководством опытного интригана, барона Геккерна, она и Дантес завлекали молодую женщину в западню для другого, высокопоставленного, развратника.
К несчастью, Наталья Николаевна не решилась сразу же рассказать о случившемся мужу: не хотела добавлять забот Пушкину, и без того измученному литературными и денежными неурядицами. Ее промах позволил Геккерну, поначалу напуганному отпором, полученным его «сыном» (тот даже «заболел» и спрятался у себя дома), возобновить атаку на жену Пушкина. Но тут в дело вмешался некий «шутник», приславший Пушкину в конце октября — начале ноября 1836 г. по городской почте то самое «безыменное письмо» с приложенным к нему «патентом рогоносца», о котором написал в своей дневнике А.Я. Булгаков.
О содержании письма мы можем судить по другому дневнику — графини Д.Ф. Фикельмон, которая записала 29 января 1837 г., что имена Дантеса и жены Пушкина были соединены в нем «с самой едкой и самой жестокой иронией». Эта запись не может быть отнесена к «диплому»: его текст не дает никаких оснований для столь категоричного утверждения.
Получив анонимное письмо с «дипломом» и обнаружив у себя дома неподписанные письма и записки к жене, в т. ч. и от неугаданного еще «искусителя», Пушкин приходит 2 ноября на квартиру Дантеса. Он хочет получить от молодого человека объяснение его поведения. Того охватывает страх. Но Дантес из беседы с Пушкиным делает вывод, что он ничего не знает ни о «свидании» на квартире у Полетики, ни об истинной роли, которую они с Геккерном играют, — «загонщиков» жертвы для «искусителя». И Дантес находит выход из грозящей ему вызовом на дуэль ситуации — признает своими, но адресованными не Наталье Николаевне, а ее сестре, письма и записки, опрометчиво показанные ему Пушкиным. На вопрос Пушкина, почему он не женится, Дантес отвечает, что его семья не дает ему согласия на брак. Пушкин бросает: «Так добейтесь его» и, в некотором замешательстве от услышанного, уходит.
Можно представить себе радость двух интриганов, а равно негодование Пушкина, когда он после «менее чем трехдневного розыска» обнаружил, что мерзавцы служат добровольной «ширмой» для другого развратника! И боль Пушкина, когда он понял, какое оружие против жены дал врагам. В том, что они применят его, у Пушкина не было сомнений.
Пушкину теперь не до «дипломов» и не до «шутника», направившего его по ложному следу. Прежде всего, ему было нужно (для предъявления высокопоставленному «искусителю» обоснованного обвинения) добиться от Геккернов признания, в чьих интересах они действовали и кого Дантес своей «находчивостью» так «непочтительно» поставил в «затруднительное» положение. Одновременно Пушкину нужно было нейтрализовать столь простодушно отданное подлецам оружие против своей жены: не дожидаться же, когда они им воспользуются! Пушкин решает упредить «окончательный удар» противников своим ударом.
Пора разобраться, наконец, с пресловутыми «дипломами». Через полвека (и, разумеется, не без желания обелить убийцу Пушкина) приятель Дантеса, князь А.В. Трубецкой, напишет: «В то время несколько шалунов из молодежи стали рассылать анонимные письма («дипломы) по мужьям-рогоносцам. В числе многих получил такое письмо и Пушкин».
Реакция его на «диплом» не могла быть сильнее той, о которой вспоминал В.А. Соллогуб, принесший ему «в первых числах ноября» 1836 года письмо с надписью «Александру Сергеевичу Пушкину», которое получила в конверте на ее имя А.И. Васильчикова, тетя Соллогуба. Не вскрыв в соответствии с правилами чести чужого письма, Соллогуб отнес его адресату. Пушкин «распечатал конверт и тотчас сказал: — Я уже знаю, что такое, я такое письмо получил сегодня же от Елизаветы Михайловны Хитровой: это мерзость против жены моей. Впрочем, понимаете, что безыменным письмам я обижаться не могу. Если кто-нибудь сзади плюнет на мое платье, так это дело моего камердинера вычистить платье, а не мое… Послушайте, что я по сему предмету пишу г-же Хитровой». И он прочитал письмо, «вполне сообразное с его словами». Пушкин «говорил спокойно, с большим достоинством и, казалось, хотел оставить все дело без внимания». Соллогуб далее пишет: «Только две недели спустя узнал я, что в этот день он послал вызов Дантесу».
Из воспоминаний Соллогуба следуют два вывода: во-первых, получение Пушкиным «безыменных писем» от друзей не было причиной вызова им Дантеса на дуэль, а давало только возможность «удачно выйти из положения» — повод обвинить Геккернов в оглашении известного им письма; во-вторых, нет оснований считать, что полученные Пушкиным от друзей письма заключали в себе «дипломы»: ведь Пушкин не показал Соллогубу принесенного им письма, а сообщенные им в письме к Е.М. Хитрово сведения, которыми она поделилась со своей дочерью Д Ф Фикельмон, говорят вовсе не о «дипломах».
Из «семи или восьми человек», получивших, как писал Пушкин Бенкендорфу, двойные письма, мы знаем лишь двух, кто вскрыл внутренние конверты: это П.А. Вяземский и М.Ю. Виельгорский. Другие, «подозревая (т.е. не вскрывая писем) низость», их Пушкину не переслали.
Вяземскому и Хитрово не понравилось, что их вмешивают в историю с письмами. Князь заявил, что «отвращает лицо» от Пушкиных, а Хитрово в своем письме «на коленях» просила Пушкина «не говорить кому бы то ни было об этом глупом происшествии». Интересно, что потом, после смерти Пушкина, Вяземский был первым, кто начал распространять версию о «дипломах», как о причине всего происшедшего.
До нашего времени дошли только два конверта — от письма Виельгорского. На первом, наружном, написан его адрес. На втором, внутреннем, имеется надпись «Александру Сергеичу Пушкину».
Конверты, вернее, сложенные конвертами листы бумаги — обложки, и один экземпляр «диплома» были обнаружены в «Деле о полученных Пушкиным анонимных письмах» (III отделение, вопреки нежеланию Пушкина «замешивать» в его дела жандармов, занялось-таки, поиском их автора). Кроме них, в «Деле» оказались только образцы французского почерка Дантеса и неких братьев Тибо. Было ли в «Деле» безымянное письмо, полученное самим Пушкиным, и какой «диплом» в нем оказался? На эти вопросы ответа нет.
Кстати, уже первый исследователь «Дела» А.С. Поляков, заметил: «Только болезненная подозрительность и гнев могли подсказать Пушкину «в ту же минуту» по получении «диплома» виновника этого дела и удостовериться «по бумаге, по слогу письма и по манере изложения», что пасквиль исходит «от иностранца, человека высшего общества дипломата» (Поляков цитирует письмо Пушкина к Бенкендорфу).
Поляков не учел лишь одного обстоятельства: письмо Бенкендорфу было написано не 4 ноября, когда Пушкин получил письма от Соллогуба и Хитрово, а спустя полмесяца, 21 ноября 1836 г. Никакой гнев не мог так долго застить Пушкину глаза от очевидных фактов: бумага «диплома» — самая простая, «слог» и «манера изложения» не выдают в авторе ни человека высшего общества, ни иностранца, ни, тем более, дипломата. Скорее, наоборот. Не надо делать из Пушкина недалекого человека: он описывал не «диплом», а письмо, его сопровождавшее. Об этом письме (и одновременно о письме «искусителя» — намеренная неоднозначность!) писал Пушкин шефу жандармов. Именно это письмо требовал показать ему барон как доказательство обвинений, выдвинутых ему Пушкиным, прекрасно зная, что Пушкин не сделает этого, чтобы не компрометировать свою жену. Копию именно этого письма хотел увидеть Дантес у Виельгорского, узнав, что тот в числе других получил «двойное» письмо.
Факт изъятия документов из «Дела» говорит о могущественных силах, стоявших за «шутником», оповестившим Пушкина о мнимой измене его жены с Дантесом, чтобы столкнуть его с кавалергардом и спровоцировать дуэль.
Возвратимся от «дипломов» к полученным друзьями Пушкина двойным письмам. И весьма удачное для Пушкина время их появления, и узкий круг получателей (кроме упомянутых, их прислали Карамзиным, К.О. Россету и еще одному-двум из тех, в дружеских чувствах, честности и нелюбопытстве кого Пушкин не сомневался), а также попытка Дантеса и Геккерна провести самостоятельное расследование, нежелание Пушкина посвящать кого-либо в подробности истории с письмами, даже вид сургучной печати, сохранившейся на конверте Виельгорского, говорят в пользу моего предположения, что наиболее вероятным распространителем этих писем был… сам Александр Сергеевич Пушкин. Только разослал он по своим друзьям, конечно, не копии письма от «искусителя» или «безыменного письма» от «шутника» и не «дипломы», а просто вложенные один в другой и запечатанные… пустые листы бумаги — конверты.
Возвратимся от «дипломов» к полученным друзьями Пушкина двойным письмам. И весьма удачное для Пушкина время их появления, и узкий круг получателей (кроме упомянутых, их прислали Карамзиным, К.О. Россету и еще одному-двум из тех, в дружеских чувствах, честности и нелюбопытстве кого Пушкин не сомневался), а также попытка Дантеса и Геккерна провести самостоятельное расследование, нежелание Пушкина посвящать кого-либо в подробности истории с письмами, даже вид сургучной печати, сохранившейся на конверте Виельгорского, говорят в пользу моего предположения, что наиболее вероятным распространителем этих писем был… сам Александр Сергеевич Пушкин. Только разослал он по своим друзьям, конечно, не копии письма от «искусителя» или «безыменного письма» от «шутника» и не «дипломы», а просто вложенные один в другой и запечатанные… пустые листы бумаги — конверты.
Расчет Пушкина заключался в том, что его друзья, не вскрыв внутренних конвертов, отошлют их ему, подтвердив, при необходимости, сам факт их получения. Это давало ему возможность маневра: если бы Геккерны начали шантажировать его жену, Пушкин имел бы полное моральное право эту возможность использовать по своему усмотрению.
«Пушкин погиб жертвою неприличного положения, в которое себя поставил ошибочным расчетом», — писал в своем дневнике весьма осведомлённый А.Н. Вульф. Что ж, если сводить причины гибели Пушкина только к истории с «безыменными письмами», может быть, это и так. Да, враги оказались более жестокими и коварными, чем предполагал сам Пушкин, а жена и друзья — менее чуткими и верными.
«Пушкин погиб жертвою неприличного положения, в которое себя поставил ошибочным расчетом», — писал в своем дневнике весьма осведомлённый А.Н. Вульф. Что ж, если сводить причины гибели Пушкина только к истории с «безыменными письмами», может быть, это и так. Да, враги оказались более жестокими и коварными, чем предполагал сам Пушкин, а жена и друзья — менее чуткими и верными.
И неожиданную горечь приобретают слова, сказанные умирающим Пушкиным своей жене: «Не упрекай себя моей смертью, это дело, которое касалось одного меня»…
«Необходимо, чтобы все отношения между вашей семьей и моей отныне были прерваны»
Что же было написано в январском, 1837 года, пушкинском письме, получение которого Геккерн и Дантес выставили как причину вызова Дантесом Пушкина на дуэль?
Считалось, что Пушкин взял за основу свое ноябрьское, 1836 года, письмо, слегка подправил его и 25 января 1837 г. отправил барону. В качестве доказательств обычно приводят: «копию» январского письма из военно-судного дела; «автокопию» того же письма; письмо П.А. Вяземского великому князю Михаилу Павловичу; воспоминания К.К. Данзаса и В.А. Соллогуба.
На самом же деле, Геккерн представил в комиссию военного суда вместо январского письма подделку. «Автокопией» же была подменена «своеручная» копия январского письма, которую получил от Пушкина его секундант Данзас и которую он направил 4 февраля 1837 г. шефу жандармов, «узнав, что содержание оного (пушкинского письма) перетолковывается в городе весьма в невыгодную сторону для Пушкина».
Письмо же Вяземского и позднейшие воспоминания Данзаса и Соллогуба вполне укладываются в русло той интерпретации преддуэльных событий, которая была принята по приказу царя и устраивала как врагов Пушкина, так и его друзей — позволяя последним, как они думали, соблюсти интересы жены и детей Пушкина. «Надо признать, — отмечал пушкинист П.Е. Щеголев, — что победу и в памяти современников, и в памяти потомства одержали они, друзья Пушкина. Своим пониманием Пушкина, которое было манифестировано ими сейчас же после смерти и по поводу ее, они заразили всех исследователей и биографов Пушкина».
Уточним, в свете всех доступных нам в настоящее время источников, хронологию событий, предшествовавших дуэли.
В течение лета и осени 1836 года жена Пушкина подверглась ожесточенной атаке двух «гонителей» — опытного интригана Геккерна и его «приемного сына» Дантеса. «Неутомимое волокитство» последнего не вызывало у Пушкина особой тревоги: поведение Дантеса вполне соответствовало придворным нравам.
В течение лета и осени 1836 года жена Пушкина подверглась ожесточенной атаке двух «гонителей» — опытного интригана Геккерна и его «приемного сына» Дантеса. «Неутомимое волокитство» последнего не вызывало у Пушкина особой тревоги: поведение Дантеса вполне соответствовало придворным нравам.
В октябре 1836 года Идалия Полетика, подруга Натальи Николаевны и тайная любовница Дантеса, заманила жену Пушкина на свою квартиру. Оказавшийся там Дантес умолял Пушкину «отдать себя» ему. Наталья Николаевна тотчас же покинула квартиру Полетики, но, к сожалению, не рассказала о происшедшем мужу, что позволило Геккерну шантажировать молодую женщину, нашептывая ей «по всем углам» о «любви» своего «сына», прятавшегося под предлогом болезни у себя дома, и даже предлагая ей бежать из России «под дипломатической эгидой». Получив отпор. Геккерн стал угрожать ей местью.
В конце октября 1836 года Пушкин получает по городской почте «безыменное письмо», извещавшее о мнимой измене его жены. Найдя у себя дома неподписанные письма и записки и связав их с Дантесом, Пушкин 2 ноября направляется к нему. Дантес «признается» в их авторстве, но заявляет, что они адресованы не Наталье Николаевне, а ее сестре Екатерине, на которой он будто бы намерен жениться. Доверчивый Пушкин удовлетворяется этим объяснением. В тот же день Дантес сообщает Геккерну о визите Пушкина, доставив барону «большое удовольствие» тем, что Пушкин не догадывается о ведущейся против него и его жены интриге.
После «менее чем трехдневного розыска» Пушкин убеждается во лжи Дантеса: по крайней мере, одно из показанных ему писем адресовано не Екатерине, а Наталье Николаевне, и написано не им. Пушкину открываются роль, которую играл Дантес, развращавший его жену в интересах некоего «искусителя», руководство Геккерном «всем поведением» «сына» и нависшая над Натальей Николаевной угроза шантажа опасным для нее письмом.
3 ноября Пушкин, желая упредить «окончательный удар», который мог нанести барон, рассылает по своим друзьям и знакомым «двойные письма» — вложенные в конверты с их адресами пустые и запечатанные листы бумаги с надписью на них «Александру Сергеевичу Пушкину». Он надеется, что эти «письма» будут ему пересланы невскрытыми, и это, при необходимости, позволит ему подтвердить обвинение двух «гонителей» его жены в разглашении содержания ставшего им известным письма.
4 ноября Пушкин получает 3 внутренних «письма» из «семи или восьми», им разосланных.
В тот же день Пушкин посылает вызов на дуэль Дантесу как непосредственному оскорбителю его чести. На этот раз Дантес скрывается от Пушкина на дежурстве по полку. К Пушкину является Геккерн, который умоляет отсрочить дуэль. Пушкин соглашается, но, очевидно, при условии, что ему будет названо имя «искусителя» его жены, прикрытого Дантесом: свидетельство было нужно Пушкину для мотивированного обвинения высокопоставленного «искусителя, непочтительно («признанием» Дантеса в авторстве чужого письма) поставленного в затруднительное положение».
7 ноября вызванный братом Натальи Николаевны из Царского Села, В.А. Жуковский начинает по своей инициативе переговоры с Геккерном. Жуковский узнает от барона «о любви» Дантеса к свояченице Пушкина и о его будто бы планах жениться на ней. Жуковский едет к Пушкину и становится свидетелем его, знавшего подоплеку сделанного Геккерном «открытия», «бешенства». Вечером того же дня Дантес посещает Виельгорского. Целью визита было желание взглянуть на одно из полученных «безыменных» писем (сведения о происходивших в семье Пушкиных событиях могли быть сообщены Дантесу Екатериной Гончаровой). Виельгорский письма не показал.
7–9 ноября Жуковский проводит в разъездах между Пушкиным, Е.И. Загряжской (теткой Натальи Николаевны) и Геккернами. Пушкин наотрез отказывается от встречи с Дантесом, имевшей целью втянуть его в объяснения при свидетелях.
Утром 10 ноября Жуковский сообщает Дантесу о своем отказе от посредничества. Все же он продолжает искать выход из положения, который видит в том, что Геккерн официально объявит о согласии на брак «сына» с Е. Гончаровой. Барон торгуется: он требует предъявить ему письмо, полученное Пушкиным.
11 и 12 ноября Жуковский, по-видимому, вновь встречается с Геккерном. Барон идет на уступки, получив от Жуковского заверения в том, что все посвященные в дело лица (и главное, Пушкин) будут хранить «в тайне» историю с вызовом, оглашение которой опозорило бы Дантеса и Геккерна.
14 ноября состоялась встреча Пушкина с Геккерном у Загряжской. Все шло, казалось бы, к мирному исходу. Но вечером Пушкин сказал В.Ф. Вяземской знаменательные слова: «Я знаю героя безыменных писем, и через восемь дней вы услышите о мести, единственной в своем роде».
16 ноября Геккерн получает от Пушкина письмо с отказом от вызова на дуэль на основании того, что он «случайно» узнал о намерении Дантеса просить руки Екатерины Гончаровой после дуэли. Дело можно было бы считать законченным (для Дантеса), но молодой француз вдруг проявил строптивость, направив без ведома Геккерна дерзкое письмо Пушкину. О реакции Пушкина на него нам известно из «Конспективных заметок» Жуковского: «Письмо Дантеса к Пушкину и его бешенство. Снова дуэль». Вечером 16 ноября Пушкин просит В.А. Соллогуба быть его секундантом и договориться «только насчет материальной стороны дуэли», не допуская каких-либо объяснений между противниками.
17-го утром Соллогуб, вопреки требованию Пушкина, посещает Дантеса и видит его уже вполне подчиненным воле Геккерна. Соллогуб едет к Пушкину, но тот остается непреклонным. Соллогуб отправляется к секунданту Дантеса д’Аршиаку. Дуэль назначается на 21 ноября. Между тем, и секунданты, и Геккерн ищут способ остановить дуэль. Соллогуб направляет Пушкину письмо, в котором сообщает ему о полной капитуляции Дантеса.
В тот же день, 17 ноября, Пушкин отвечает Соллогубу, письменно подтверждая согласие считать свой вызов «как непоследовавший» из-за дошедшей до него «общественной молвы» о решении Дантеса объявить, после дуэли, о намерении жениться на Е. Гончаровой. Уполномоченный Геккерном, д’Аршиак, прочитав письмо, говорит: «Этого достаточно». Вечером, на балу у С.В. Салтыкова, было объявлено о помолвке.
Однако, вопреки своему обещанию, Геккерн и Дантес, подстрекаемые и поддерживаемые врагами Пушкина, начали распускать порочащие его и его жену слухи. К тому же, вскоре после 17 ноября Геккерн, раздраженный предстоящей вынужденной женитьбой «сына», возобновил на правах будущего родственника преследование Натальи Николаевны. Вероятно, и Пушкин узнал больше о роли Геккерна не только как сводника Дантеса.
21 ноября Пушкин пишет письмо Бенкендорфу и в тот же день показывает Соллогубу письмо, написанное Геккерну.
23 ноября Пушкин — на аудиенции у императора. Нам неизвестно об активных действиях Пушкина до второй половины января 1837 г, из чего можно заключить, что Николай I пообещал предостеречь «искусителя» и найти автора письма, с которого все началось. Вероятно, он вытребовал это письмо у Пушкина и взял с него слово «ничего не начинать, не предуведомив его».
23 ноября Пушкин — на аудиенции у императора. Нам неизвестно об активных действиях Пушкина до второй половины января 1837 г, из чего можно заключить, что Николай I пообещал предостеречь «искусителя» и найти автора письма, с которого все началось. Вероятно, он вытребовал это письмо у Пушкина и взял с него слово «ничего не начинать, не предуведомив его».
10 января 1837 г. состоялась свадьба Дантеса и Екатерины Гончаровой. Пушкин на венчание не поехал.
Вероятно, 14–16 января «искуситель» попытался втайне от Пушкина возобновить домогательство его жены, возможно, как он это делал раньше, до женитьбы Дантеса на Е. Гончаровой, — через последнюю. Одновременно Дантес с еще большим усердием продолжил игру в «жертву возвышенной любви», а Геккерн — в «увещателя» Натальи Николаевны. Ситуация стала напоминать ноябрьскую, однако на этот раз, что было для Пушкина нестерпимо, ее сопровождали пересуды «в тех кругах, где были его друзья, его сотрудники и, наконец, его читатели».
Вероятно, 14–16 января «искуситель» попытался втайне от Пушкина возобновить домогательство его жены, возможно, как он это делал раньше, до женитьбы Дантеса на Е. Гончаровой, — через последнюю. Одновременно Дантес с еще большим усердием продолжил игру в «жертву возвышенной любви», а Геккерн — в «увещателя» Натальи Николаевны. Ситуация стала напоминать ноябрьскую, однако на этот раз, что было для Пушкина нестерпимо, ее сопровождали пересуды «в тех кругах, где были его друзья, его сотрудники и, наконец, его читатели».
25 января 1837 г. Пушкин направляет Геккерну письмо, которое барон и его «сын» сочли достаточным предлогом, чтобы вызвать Пушкина на дуэль. Перед этим, на балу у Воронцовых-Дашковых, Дантес явно напрашивался на публичное оскорбление со стороны Пушкина, что давало Дантесу весомые преимущества при неизбежной в этом случае дуэли.
Из приведенной хронологии видно, что с 21 ноября 1836 г. по конец января 1837 г. имели место события, хотя и скрытые от непосвященных, но хорошо известные трем лицам — Пушкину, Геккерну и царю.
Из приведенной хронологии видно, что с 21 ноября 1836 г. по конец января 1837 г. имели место события, хотя и скрытые от непосвященных, но хорошо известные трем лицам — Пушкину, Геккерну и царю.
Это — один из аргументов против того, чтобы считать представленное в военную комиссию, разбиравшую дело о дуэли, «письмо Пушкина» подлинным: в полученном 8 или 9 февраля 1837 г. через министра иностранных дел России К.В. Нессельроде «письме Пушкина» эти события не нашли отражения. Другим аргументом служат слова самого Геккерна из его неофициального письма к тому же Нессельроде от 1 марта 1837 г.: «Из уважения к могиле я не хочу давать оценку письма, которое я получил от г. Пушкина: если бы я представил его содержание, то было бы видно…»
Какое же письмо было выдано за пушкинское и передано Геккерном через Нессельроде в комиссию?
В разорванном черновике второй редакции своего ноябрьского письма к Геккерну Пушкин отредактировал на 2-ой странице фразы о роли Геккерна: «Вы, господин барон, позвольте мне заметить, что роль, которая <…> во всем этом деле, не есть <…> Вы, представитель коронованной главы, вы были сводником <…> вашему выблядку, или так называемому побочному сыну, вы управляли всем поведением этого молодого человека. Именно вы внушали ему низости <…> выдавать, и глупости, которые он <…> Подобный похабной старухе, вы <…> мою жену по всем углам, чтобы ей <…> сына, и когда, больной венерической болезнью, он был <…>».
Затем Пушкин карандашом написал над «сводником» слово, которое исследователи-пушкинисты Б.В. Казанский и Н.В. Измайлов прочитали как «paternellement» и перевели его как «отечески». Но в оригинале нет второго «l»: Пушкин написал наречие «paternelement» («притворно отечески»), образовав его от прилагательного «paterne», а не от «paternel», и отсутствие в нем второго «l» в таком случае абсолютно верно.
Ошибку пушкинистов можно объяснить только «заимствованием» этого слова из «автокопии», которая оказывается в результате лишь списком с отредактированной Пушкиным второй редакции ноябрьского письма. Кроме того, ни стилистически, ни, в первую очередь, фактологически Пушкин не мог вставить в копию, если бы она была написана им самим, два слова «probablement» («вероятно») в одно, следующее за фразой о сводничестве Геккерна, предложение: «Все его (Дантеса) поведение было, вероятно, управляемо вами; именно вы, вероятно, внушали ему низости, которые он осмеливался выдавать, и глупости, которые он осмеливался писать».
Что касается «копии» из военно-судного дела, то и она оказывается дискредитированной упомянутыми «probablement» и «paternellement». Знаменательны и отсутствие в ней второго слова «batard», что дало в переводе комиссии невразумительное «вашего незаконного рожденного или так называемого сына», и «описка» переписчиков в дате («26 января»).



Тексты «копии» и «автокопии» восходят к одному источнику — исправленной Пушкиным второй беловой редакции ноябрьского письма. Однако в «копиях» не нашли отражения ни 3-я страница письма, т. е. история с «безыменными» письмами, ни 4-я, где Пушкин пишет, что не чувствует себя отомщенным и требует от барона объяснений, достаточных для того, чтобы не плюнуть ему при первой же встрече в лицо. Без этих страниц фраза Пушкина из «копий» — «Вы же понимаете, господин барон, что после всего этого я не могу допустить, чтобы моя семья имела бы малейшие отношения с вашей» — оказывается «отодвинутой» к событиям трехмесячной давности, т. е. к завязке трагедии.
Сохранились пять клочков с текстом, написанным Пушкиным карандашом с чернильными поправками. Клочки складываются в неполный, т. к. три клочка средней части утеряны, лист. Казанский и Измайлов доказали, что он — из черновика январского письма, и попытались восстановить его текст. К этому черновику можно добавить еще пять клочков из т. н. Майковского собрания. Они написаны чернилами, причем два несут следы пушкинской правки, а остальные три — нет. Тем не менее, тексты на клочках не повторяются, что дает возможность рассматривать их в некоторой, хотя, разумеется, и условной, совокупности.
Я исправил недостатки реконструкции текста на этих клочках, вызванные тем, что Казанский и Измайлов оказались в плену своей гипотезы о «дипломе рогоносца», как причине конфликта. Вот восстановленный текст. В скобках — слова, исправленные самим Пушкиным:
«Я не беспокоюсь (о ваших) что (вы делали моей жене) (вы продолжаете) моя жена еще слушает (некие) ваши притворно отеческие увещания, я не (хочу) моя жена (чтобы) чтобы некий наглый родственник г-н… после… (ни) и представлять ей гнусное поведение как жертвоприношенье одному монарху… в сплетнях… примешивать то, что… вам, и я… предостеречь от этого… я имею вашу мерку, вас обоих, вы моей еще не имеете. —
Вы спросите, что помешало мне опозорить вас перед Нашим двором и вашим, и обесславить вас в… которая мстит за меня… это не воображаете… оставить еще… подлое дело — но, я это повторяю, необходимо, чтобы все отношения между вашей семьей и моей отныне были прерваны. — »
«…Я не… (вы сыграли втроем одну роль) озабочен ни (наконец, мад. Экерн) (Однако, ваш сын, недовольный)… могу позволить, чтобы…»
«конечно, я не… — (однако)… еще менее… отпускать ей… волочиться и…»
«…хорошо, г-н барон,. всё это, я не… позволить, чтобы…»
«Вот… Я желаю… было больше… которое недавно…»
«…пишет, что… Петербург (?) В феврале… родственниками… должность… император… правительство… говорил о вас… твердите…»
Вы спросите, что помешало мне опозорить вас перед Нашим двором и вашим, и обесславить вас в… которая мстит за меня… это не воображаете… оставить еще… подлое дело — но, я это повторяю, необходимо, чтобы все отношения между вашей семьей и моей отныне были прерваны. — »
«…Я не… (вы сыграли втроем одну роль) озабочен ни (наконец, мад. Экерн) (Однако, ваш сын, недовольный)… могу позволить, чтобы…»
«конечно, я не… — (однако)… еще менее… отпускать ей… волочиться и…»
«…хорошо, г-н барон,. всё это, я не… позволить, чтобы…»
«Вот… Я желаю… было больше… которое недавно…»
«…пишет, что… Петербург (?) В феврале… родственниками… должность… император… правительство… говорил о вас… твердите…»
В этих обрывках нашли отражение моменты, отсутствующие в обеих редакциях ноябрьского письма и в пресловутых «копиях» январского письма. Во всяком случае, этот, несомненно, пушкинский, эпистолярный материал, с гораздо большим основанием следует относить к январскому, 1837 г., письму Пушкина к Геккерну, чем сомнительные «копии». Точку в этом вопросе мог бы поставить только оригинал последнего письма А.С. Пушкина к Геккерну.
То, что царь и его ближайшее окружение узнали о существовании, по меньшей мере, двух писем Пушкина к Геккерну, косвенно подтверждено в конфиденциальном письме императрицы Александры Федоровны к графине С.А. Бобринской: «Пушкин вел себя непростительно, он написал наглые письма (а не одно письмо) Геккерну, не оставив ему возможности избежать дуэли». Вспомним о том, что в комиссию военного суда «письмо Пушкина» было передано через Нессельроде, которому Геккерн послал его в числе пяти документов. Но через некоторое время Геккерн направил Нессельроде еще один «документ, которого не хватало» в числе тех, что барон вручил ему ранее. Российский министр иностранных дел, хотя и находился вместе со своей супругой в весьма близких отношениях с послом Нидерландов, выходящих за рамки официального протокола, не мог не выполнить требования официальной комиссии — предъявить ей некоторый недостающий важный документ. Можно уверенно предположить, что этим документом было настоящее январское письмо Пушкина, утаить которое у себя барон теперь не мог, т. к. уже 4 февраля Данзас послал Бенкендорфу для сведения императора «своеручную» копию пушкинского письма.
Из приведенного выше реконструированного текста черновика этого письма видно, что оно не имело оскорбительного характера. Поэтому его нельзя было выставить причиной вызова на дуэль, и Геккернам пришлось прибегнуть к подлогу — выдать за полученное ими в январе письмо неполный и подправленный (подделанный) список с раздобытого ими, возможно, через сестру Пушкина Е. Гончарову-Дантес подправленного Пушкиным черновика ноябрьского, 1836 г., письма. Это полностью реабилитирует Пушкина и многократно усиливает вину двух интриганов, не желавших выполнить его справедливые требования.
Перед угрозой покинуть Петербург и прервать, таким образом, столь успешную карьеру в России, Геккерны решили, что только дуэль сможет повернуть дело в нужную им сторону. Очевидно, они были уверены в ее благоприятном для Дантеса исходе.
…«Его убийца хладнокровно навёл удар… Спасенья нет…»
Друг Пушкина, поэт В.А. Жуковский, незадолго до своей смерти сказал старшему сыну Пушкина, что его отец был «убит человеком без чести, дуэль происходила вопреки правилам — подло…». Высказывались различные догадки — о кольчуге, будто бы надетой Дантесом под мундир, о большей убойной силе его пистолета и др. Эти версии не нашли подтверждения, но намечали верное направление поисков доказательств конкретной вины одного из главных участников преступной травли поэта, его убийцы.
Последняя дуэль А.С. Пушкина была намеренно спровоцирована нидерландским посланником в России бароном Луи Геккерном и его «приемным сыном» Жоржем Дантесом, которых поэт за их гнусное поведение в отношении его жены Натальи Николаевны поставил в положение, грозящее разоблачением и позором. Два подлеца, сознательно ведя дело к поединку, который мог кончиться печально и для Дантеса, торопились и приняли, конечно, меры, чтобы в любом случае свести к минимуму риск смертельного исхода для молодого авантюриста. Какие?
25 января 1837 г. А.С. Пушкин посылает Геккерну письмо, в котором требует от него и от Дантеса прекратить преследование Натальи Николаевны. В ответ барон в тот же день направляет поэту вызов на дуэль. Уже содержание ответного письма Геккерна наводит на размышления. Так, высказывая сомнение, точно ли письмо, полученное бароном, написано Пушкиным, Геккерн, тем не менее, заявляет, что дуэль «не терпит никакого отлагательства», и направляет к поэту секретаря французского посольства д’Аршиака, родственника Дантеса, чтобы «условиться о месте» поединка. Желая обезопасить себя и Дантеса от грядущих обвинений в убийстве, поднаторевший в интригах барон ставит в конце письма фразу, которую можно было бы в дальнейшем трактовать как утверждение о вероятности мирного исхода дуэли: «Позднее я заставлю вас, милостивый государь, уважать звание, которым я облечен».
Враги Пушкина спешили: они боялись, что дело получит огласку, и дуэль будет предотвращена. Д’Аршиак, выполняя волю Геккернов, требует от Пушкина немедленно направить к нему секунданта для переговоров. В своей записке к поэту он подчеркивает, что «дело… должно кончиться завтра», то есть 27 января, и в дальнейшем неоднократно настаивает на этом требовании. В результате в распоряжении Пушкина оставалось менее суток на все приготовления к дуэли. Во многом и по этой причине поэт взял в секунданты своего лицейского товарища Данзаса, храброго боевого офицера, но, как оказалось, небольшого знатока дуэльных правил. Между тем именно на секундантах лежала ответственность за строжайшее соблюдение установленного порядка проведения поединка, без чего дуэль превращалась в простое убийство.
Приходится сожалеть об «утрате» показаний Данзаса, данных им 10 февраля 1837 г. комиссии военного суда, разбиравшей дело о дуэли. Иначе мы бы знали его ответ на вопрос, аналогичный тому, что был задан Дантесу: «Какие именно были условия дуэли и на чьих пистолетах стрелялись Вы?» На первую часть вопроса Дантес ответил уклончиво, что, как ему известно, «условие дуэли и всего происшедшего на месте оной» описано «подробно» в письме д’Аршиака (еще до суда отправленного в Париж французским послом в России Барантом) к П.А. Вяземскому. Ответ Дантеса на вторую часть вопроса гласил: «Пистолеты, из коих я стрелял, были вручены мне моим секундантом на месте дуэли; Пушкин же имел свои».
В такой форме вопрос Дантесу был задан, очевидно, не случайно. Как не случайно и то, что в отличие от других аспектов дуэли этот не нашел никакого развития в материалах военно-судного дела. А ведь в письме д’Аршиака к Вяземскому об условиях дуэли было сказано лишь вскользь. На вторую же часть вопроса Дантес по существу не ответил вообще. Между тем вопрос метил в какое-то чрезвычайно уязвимое место. Недаром, предваряя свои показания об условиях дуэли и пистолетах, Дантес впервые признается в посылке Н.Н. Пушкиной «записок… коих выражения могли возбудить его (Пушкина) щекотливость как мужа».
Дантес, петляя, намеренно уводит комиссию в сторону от опасного для него вопроса и, по-видимому, достигает своей цели. «Чистосердечное признание» подсудимого давало, наконец, в руки военного суда искомую «причину» гневного письма Пушкина к Геккерну и позволяло поскорее свернуть следствие, что требовал от суда император. Пушкин умер, Дантес «признался» и понесет наказание, Геккерн будет удален из России. Каждый, по мнению двора, получил «по заслугам». И все происшедшее следовало быстрее забыть. Становилось излишним выяснять и подробности самого поединка.
Дантес, однако, не только уводил комиссию в сторону от вопроса о принадлежности пистолетов, но и пытался бросить тень на честь противника. По его словам, Пушкин стрелял из «своих» пистолетов, а сам он — из врученных ему д’Аршиаком на месте дуэли, т. е., по смыслу, ему не знакомых. В чем тут дело?
Но сначала — об условиях дуэли. Они были «сделаны на бумаге» и подписаны секундантами, но не были упомянуты в показаниях Дантеса и не приложены к военно-судному делу. «Условия дуэли» были обнаружены и доведены до общественности сравнительно недавно. Между тем выработанные Геккернами условия поединка были крайне жестокими. Они исключали какое-либо примирение противников, предусматривали возобновление дуэли в случае промахов с обеих сторон и устанавливали расстояние между барьерами в десять шагов.
Такая короткая дистанция давала очевидное преимущество стрелявшему первым. Пушкин, не целясь, первым вышел к барьеру. Дантес же начал целиться в Пушкина по ходу движения и поэтому двигался медленнее. Когда Пушкин только начал наводить на него пистолет, Дантес, не дойдя одного шага до барьера, выстрелил, предупреждая выстрел поэта своим, и с возможно более близкой дистанции. Что же Пушкин? Сознательно ли он шел на риск принять на себя первый выстрел, как уже поступал ранее в подобных ситуациях, надеясь потом распорядиться дуэлью по-своему? Или считал, что Дантес выстрелит, только подойдя к самому барьеру, как было принято в дуэлях на пистолетах? «Условия дуэли» давали противникам право на выбор дуэльной тактики, но Пушкин, как известно, даже не читал их (заметим, что его секундант не должен был допускать этого). Дантес выстрелил первым, и его выстрел был точен.
Уместно задаться вопросом; чем уравновешивалось преимущество первого выстрела в дуэлях на подобных жестких условиях? Ведь известно, что дуэль и на меньших дистанциях не всегда имела результативный исход. Косвенно, кстати, это подтверждается и условиями январского поединка, предусматривавшими его возобновление в случае обоюдного промаха. Таким уравновешивающим шансы фактором было несовершенство тогдашнего дуэльного оружия — гладкоствольных шомпольных пистолетов, дававших большое рассеяние пуль при стрельбе.
К этому фактору добавлялся еще один, хорошо известный всем, кто хотя бы раз имел дело со стрелковым оружием: каким бы совершенным оно ни было по конструкции, как бы тщательно ни было изготовлено, в любом случае требуется его предварительная пристрелка, т. е. настройка прицельного приспособления в соответствии с индивидуальными особенностями стрелка и характеристиками конкретного пистолета. Весьма несовершенные прицельные устройства дуэльных пистолетов требовали вносить при стрельбе поправку: чтобы попасть в цель, надо было целиться правее или левее нее, выше или ниже.
Дуэльные пистолеты приобретались исключительно для дуэлей. Дуэльный кодекс абсолютно не допускал их пристрелки. Гарантами соблюдения этого условия были секунданты. Для того же, чтобы даже в случае умышленного нарушения этого правила свести к минимуму достигаемые преимущества, на месте дуэли жребием сначала разыгрывали пару пистолетов (они продавались парами), а затем — кому какой пистолет из этой пары достанется.
Данзас, к сожалению, оказался, не на высоте своей роли секунданта. Растерявшись на месте поединка или под влиянием торопившего его «сделать все возможно скорее» Пушкина, Данзас допустил грубейшее нарушение дуэльных правил: противники стрелялись «каждый из своих» пистолетов. Видимо, поэтому и был задан в суде вопрос о принадлежности пистолетов. Дантес своим ответом отводил от себя подозрения в пристрелке оружия и переадресовывал их к умершему и к его секунданту. Однако известно, что пистолеты Пушкина были доставлены ему из магазина перед самой дуэлью. Что касается Дантеса, то мы имеем все основания подозревать его в сознательном сокрытии истины. Оплошность Данзаса только способствовала ему в этом.



Племянник поэта Л.Н. Павлищев в своих воспоминаниях описал случайную встречу В.Д. Давыдова, сына поэта Дениса Давыдова, в 1880 году в Париже с болтливым и назойливым стариком — Жоржем Дантесом-Геккерном. Тот, якобы сожалея о случившемся с ним в молодости, говорил ему, что, «целясь в ногу» Пушкина, он, «страха ради перед беспощадным противником, не сообразил, что при таком прицеле не достигнет желаемого, а попадет выше ноги». Но Дантес, как известно, был опытным стрелком. Из его слов более очевидно следует, что прицел дуэльного пистолета Дантеса был, говоря профессиональным языком, «сбит» и что Дантес знал об этом. Такое знание могло быть только результатом предварительной пристрелки пистолета!
Если предположение о «сбитом» прицеле верно, то даже если бы пистолеты были разыграны и пистолет Дантеса достался Пушкину, он, целясь, скажем, в голову противника, попал бы… в небо. К тому же, направленная вниз линия прицеливания Дантеса, конечно же, дезориентировала Пушкина. Недаром, поняв саморазоблачающий характер болтовни Дантеса, его потомок Л. Метман был столь категоричен: «У барьера он (Дантес) не считал нужным сентиментальничать… Он не говорил, что целил Пушкину в ногу, и никто из его семьи никогда не слышал от него об угрызениях совести». Не правда ли, оригинальное оправдание?! Данзас допустил еще два нарушения дуэльных правил: во-первых, заменил раненому Пушкину пистолет, дуло которого оказалось забитым снегом, что только увеличило бы силу и точность ответного выстрела, и, во-вторых, позволил Дантесу переменить положение, которое он занимал после своего выстрела — стать к Пушкину боком и заслониться пистолетом.
Автор: В.Е. Орлов